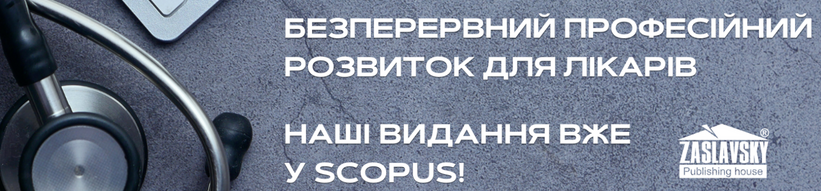Газета «Новости медицины и фармации» 20(228) 2007
Вернуться к номеру
Сострадание
2007/ukr/24/1.jpg)
Делает ли высокий теоретический уровень всех врачами в моем представлении об этой профессии? Можно поступить на медицинский факультет университета, имея очень высокий IQ. Можно с блеском сдать многочисленные экзамены — свидетельство приобретения знаний. Можно сохранить эти знания, имея хорошую память. Можно уметь думать, как не без ехидства заметил Оскар Аронович. Но даже все это не создаст врача, если у человека, получившего профессию медика, нет еще одного, вероятно, врожденного качества, наличие или отсутствие которого в настоящее время нельзя обнаружить у абитуриента, поступающего на медицинский факультет.
Знание и умение думать — два непременных качества, без которых вообще невозможно врачевание. Знания приобретаются в процессе учения. В их усвояемости и запоминании не может быть сомнений, если учесть, что на медицинский факультет могут попасть только сплошные гении, как в шутку квалифицируют их студенты других факультетов. Умение думать — в большей или меньшей мере функция времени. Шесть с половиной лет специализации после получения врачебного диплома, которые завершаются очень серьезными письменными экзаменами, позволяющими получить диплом специалиста, общение с опытными коллегами, анализ собственных ошибок при лечении многих сотен и даже тысяч больных. Короче говоря, два необходимых врачу качества можно приобрести. Но достаточно ли этого, чтобы стать хорошим медиком?
Мы уже жили в Израиле около двух лет. В среде ортопедов меня узнали довольно быстро. Старые, еще киевские, пациенты продолжали распространять слухи (иногда легендарные, не совсем соответствующие действительности) о своем враче. Постепенно к ним присоединились мои новые, израильские, пациенты. Жили мы в ту пору в Рамат-Гане, рядом с Тель-Авивом.
Однажды мне позвонили из Иерусалима родители шестнадцатилетнего мальчика, болевшего пузырчаткой. В течение тринадцати месяцев его лечил кортикостероидами видный иерусалимский профессор-дерматолог. Грамотно лечил. Но в результате этого лечения наступило тяжелейшее осложнение — выщелачивание из костей минеральных веществ — кальция и фосфора, что привело к перелому тел нескольких позвонков. В этом абсолютно нельзя обвинить дерматолога. Он спасал жизнь своего пациента, в данном случае не считаясь с возможностью осложнения.
Мальчик тяжко страдал от болей. Каждый проезжавший по улице автомобиль словно проезжал по его сломанным позвонкам. Родителям мальчика рассказали, что я владею каким-то методом, способным успокоить боли и ускорить сращение отломков костей. Родители понимали, что это непросто — приехать из Рамат-Гана в Иерусалим, что одна дорога занимает уйму времени — все-таки семьдесят с лишним километров, но они очень просили меня не отказать в этом визите.
Пузырчатка ! Pemfigus vulgaris! Я ехал в автомобиле и думал о двух больных пузырчаткой, о единственных больных этой страшной болезнью, которых мне пришлось видеть в своей жизни.
Тогда я учился на четвертом курсе. На кафедре кожных болезней нам продемонстрировали двух больных пузырчаткой. Мужчина лет пятидесяти и двадцатилетняя девушка лежали в одной палате, перегороженные простыней. Вся их кожа была покрыта пузырями, словно после ожога. В таком же состоянии была слизистая рта, которую можно было увидеть. Ассистент сказал, что вся остальная слизистая в таком же состоянии. Они умирали. Профессор, заведовавший кафедрой кожных и венерических болезней, врач, вызывавший у нас, у студентов, восхищение, безнадежно и бессильно разводил руками, объясняя, что еще нет метода лечения этого страшного заболевания.
Помню, эта перегороженная простыней палата, этих два страдальца, пол которых уже не принимался во внимание ни ими, ни окружавшим их персоналом, эта атмосфера безнадежности и беспомощности послужили добавлением к тому, что я увидел на практических занятиях в онкологической клинике. Все это заставило меня усомниться в правильности избранной мною профессии. Нет, врачевание не для меня. Не для меня бездеятельное наблюдение за страданием людей, обреченных на мучительную смерть. Я подал заявление об уходе из медицинского института. Спасибо директору, Дмитрию Сергеевичу Ловле, замечательному, благородному человеку, разглядевшему в этом заявлении качество, необходимое врачу. Сострадание — вот оно, это качество. Дмитрий Сергеевич не дал мне оставить медицинский институт, за что всю жизнь я должен быть ему благодарным.
И вот сейчас, почти тридцать лет спустя, предстоит увидеть еще одного больного, страдающего пузырчаткой. Я ничего не знал о том, лечится ли теперь это страшное заболевание. Уже только в автомобиле, на подъеме в Иерусалим, я со стыдом подумал о том, что еду как узкий специалист в худшем смысле этого слова, как специалист по ногтевой фаланге второго пальца левой стопы (выражение, которым я определяю никчемных профессионалов, специализирующихся в одной узчайшей области и не имеющих представления ни о чем другом).
Честно говоря, я ожидал увидеть нечто похожее на ту ужасную палату в клинике кожных болезней. Пациент в высшей мере симпатичный юноша. Никаких пузырей на его теле я не обнаружил. До перелома, который произошел в результате незначительной травмы, он жил почти нормальной жизнью, посещал школу. Видный иерусалимский профессор-дерматолог, о котором я уже упомянул, наблюдал его, грамотно назначая лекарственную терапию. Да, шагнула медицина за годы после окончания мною медицинского института!
Я назначил курс лечения магнитным полем — метод, который я предложил для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата (это была тема моей докторской диссертации, первой докторской диссертации о магнитных полях в биологии и в медицине), оставил большой уникальный магнитофор, расписал детальнейшую, по минутам, схему упражнений и последующего подъема с постели и попросил родителей передать коллеге-дерматологу, что под прикрытием магнитного поля он может медленно, постепенно уменьшать дозы кортикостероидов.
Родители, а еще в большей степени мальчик, благодарили меня за визит и тщетно пытались уплатить гонорар. Ну хотя бы оплатить бензин, который я потратил по пути в Иерусалим и потрачу, возвращаясь в Рамат-Ган. Не помню, как именно я объяснил им отказ от гонорара. (К теме вознаграждения за врачебный труд, я надеюсь вернуться в свое время.) Родители расчувствовались и, смущаясь, рассказали, что профессор-дерматолог отказался сделать визит. Он предложил привезти мальчика к нему в отделение. Но ведь к мальчику нельзя даже прикоснуться, как же его погрузить в автомобиль? Профессор выразил сожаление, но заявил, что его статус уже позволяет ему отказаться от посещений больных на дому.
Меня крайне удивило заявление о статусе. Я даже подумал, не напутали ли чего родители, хотя трудно было заподозрить этих интеллигентных людей в непонимании простейших вещей.
Я еще раз напомнил, что основным врачом является дерматолог, что лечу только осложнение болезни, что дерматологу надо сказать о возможности сокращения дозы кортикостероидов.
Дня через три родители позвонили мне и рассказали, что у мальчика почти полностью прекратились боли. Это позволило ему начать упражнения по написанной мною схеме.
Я спросил, передали ли они дерматологу совет уменьшить дозу кортикостероидов. Да, передали. В их голосе я уловил явное смущение. Подстегиваемые мною, они поведали, что профессор-дерматолог пренебрежительно отмахнулся от моего совета. Узнав, что консультировавший мальчика ортопед — врач из Советского Союза, он заявил, что в России вообще нет хороших врачей, а вся тамошняя медицина на уровне каменного века.
Только выслушав это, я представил себе образ врача, высокомерно отказавшегося посетить на дому своего пациента, мальчика, которого он лечил тринадцать месяцев. За такое время пациент должен был стать ему родным, как сын.
Еще через несколько дней родители рассказали мне, что данные лабораторного исследования поразили профессора, что он уменьшил дозу кортикостероидов и попросил у них номер телефона «русского» ортопеда.
Примерно через два дня после беседы с родителями раздался телефонный звонок.
— Говорит профессор… — он назвал свою фамилию, которая, конечно, была мне известна.
— Профессор? В какой области?
— Я врач-дерматолог.
— Ты врач? Не может быть! Ты не врач. Ты дерьмо. Врач не может отказать своему страждущему пациенту в визите. Это, во-первых. А во-вторых, у врача есть представление о деонтологии. Врач никогда не унизит своего коллегу в глазах пациента, даже если он невысокого мнения о коллеге.
С этими словами я положил трубку.
Вероятно, меня можно упрекнуть в грубости. Но я не мог скрыть своего отношения к врачу, у которого отсутствует врачебное качество, необходимое медику не менее чем знания и умение думать. Речь идет о сострадании. И главное — это качество отсутствует у профессора, обучающего студентов.
Увы, нет еще теста, позволяющего выявить наличие или отсутствие сострадания у абитуриента, поступающего на медицинский факультет. Нет еще возможности закрыть двери медицинского факультета перед абитуриентом, не обладающим чувством сострадания. Никогда такой человек не будет настоящим врачом. Он может стать вполне компетентным профессионалом, таким, как этот профессор-дерматолог. Но Врачом (с большой буквы) он никогда не будет.
Можно точно определить остроту и поле зрения. Есть точное понятие об абсолютном слухе. Чуть сложнее, но можно определить остроту нюха и вкуса (так подбирают дегустаторов и специалистов парфюмерного производства). Можно определить тактильную чувствительность. Все пять чувств поддаются более или менее точному измерению. Но как измерить величину эмоций?
Возможно, у студента, которого я отнес к личностям, лишенным чувства сострадания, есть зачатки или рудиментарные остатки этого чувства. Возможно, из этого чахлого зернышка могло бы произрасти пусть не полноценное, но хотя бы приближающееся к необходимому врачу качество, если бы уважаемый профессор, которого, безусловно, желает скопировать студент, сам был наделен этим качеством.
Но ведь профессор-дерматолог смотрит на больного только как на объект, подлежащий ремонту. Он ничем не отличается от хорошего, скажем, слесаря-лекальщика, работающего над сложной деталью. Он забывает о том, что человек не металлическая болванка, что кроме тела, состояние которого определяется качественными и количественными анализами, есть еще невидимая непонятная душа, определяющая личность.
Вооруженный знаниями и опытом, профессор умеет поставить точный диагноз и назначить курс лечения наиболее благоприятный для положительного исхода. Чего же более, спорят иногда со мной мои друзья-медики, разве не это функция врача?
Это. Но этого мало. Это не вписывается в понятие «искусство врачевания». Даже высокий профессионализм — это еще не искусство, непременным компонентом которого обязательно является душа.
Случайно открылось мне это еще тогда, когда я был молодым врачом. Нищенской зарплаты ортопеда, работающего на одну ставку, явно не хватало на жизнь. Я подрабатывал, дежуря по ночам в качестве общего хирурга.
Ответственным дежурным в тот день был опытный врач, умелый хирург, славный интеллигентный человек. Утром, в начале четвертого мы вышли из операционной после последней операции. Даже я был вымочален. Можно было представить себе состояние ответственного дежурного, человека уже давно не молодого. Мы мечтали поспать хотя бы полчаса. Но именно в этот момент карета скорой помощи доставила ребенка, мальчика полутора лет с кишечной непроходимостью.
Ребенок был уже в состоянии агонии. Патологический процесс развился на фоне генетического заболевания, с которым мальчик появился на свет. Болезнь Дауна. Мальчик-монголоид.
Вслед за ответственным дежурным я осмотрел ребенка и спросил, почему мы не начинаем операцию. Ответственный дежурный грустно посмотрел на меня:
— Какая операция? На трупе? Вы сердце выслушали? У него тяжелейший врожденный порок сердца. Вероятно, именно это послужило причиной закупорки артерии кишечника. Как вы будете оперировать? Под каким наркозом? Первая же капля эфира убьет его. Смерть этого ребенка — счастье для родителей. Избавление. Вы представляете себе еще несколько лет мучений с этим уродом?
Я представлял себе. Но я видел родителей, приехавших вместе с ребенком в карете скорой помощи. Отец, пожилой мужчина, вел себя агрессивно, подчеркивая, что он сотрудник КГБ, требовал немедленно прооперировать ребенка. Мать, женщина далеко за сорок, вела себя тише. Но было видно, каких усилий ей это стоило. Она рассказала мне, как долго они ждали ребенка, их единственного, такого дорогого, такого красивого мальчика. Она показала мне фотографию монголоида с бессмысленным взглядом раскосых глазок, нисколько не красивее, чем этот умирающий страдалец.
Лучше бы не видеть мне состояния родителей, когда ответственный дежурный сообщил им о смерти ребенка. Отца выводили из обморока, дав понюхать нашатырный спирт. Мать отпаивали настоем валерианы.
Не помню, что я делал, что говорил, как утешал несчастных людей, потерявших единственное чадо, когда уже не могло быть ни малейшей надежды на еще одного ребенка.
А через несколько дней начались комиссии. Отец написал жалобу на ответственного дежурного в министерство здравоохранения. Но что хуже всего, в этом же заявлении была благодарность второму врачу, то есть мне, за чуткое отношение и попытку спасти ребенка, чему препятствовал ответственный дежурный. Конечно, все это не имело ни малейшего отношения к истине. Но комиссии трепали нервы, пока не закрыли дело в связи с отсутствием состава преступления.
Все это время я думал о несправедливости заявления родителей. В течение получаса с момента поступления ребенка до его смерти ответственный дежурный был действительно ответственным. Он точно поставил два диагноза, что однозначно подтвердило патологоанатомическое вскрытие. Тонкая кишка омертвела на протяжении семидесяти сантиметров. Даже при идеальном наркозе ребенок с такой сердечной патологией не перенес бы операции. И по отношению к родителям ответственный дежурный вел себя безупречно. Возможно, только усталость после нескольких ночных операций и неизгладимая печать неудовлетворенности на лице от всех перипетий неустроенной жизни произвели на родителей, убитых несчастьем, тягостное впечатление. Возможно, родители разглядели у ответственного хирурга оптимальный, рациональный подход к смерти их бесценного ребенка так же, как признаки сострадания, которые не пытался и не умел скрыть молодой врач.
Сострадание — вот она, необходимая компонента врачебных качеств, магически действующая на пациента и на его близких. Примерно через месяц или чуть больше родители умершего ребенка преподнесли мне подарок: позолоченный барельеф Ленина на коричневой пластмассовой подставке. Не забудьте, что отец ребенка был сотрудником КГБ. Так нежданно и, казалось бы, вопреки всякой логике я получил незаслуженный гонорар.