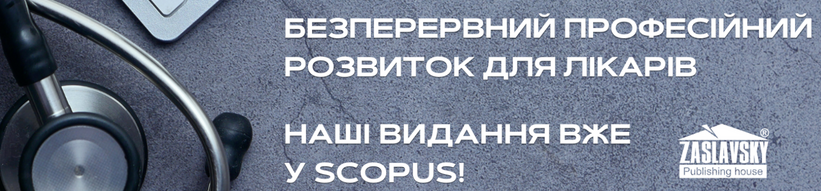Статья опубликована на с. 29 (Мир)
Болотная трясина очередного закрытого партийного собрания, как обычно, монотонно погружала меня в себя. Мероприятие осуществлялось в помещении первой поликлиники — то ли на улице Жертв Революции, то ли уже переименованной в улицу Героев Революции (теперь, говорят, улица опять стала Трехсвятительской). Чему было посвящено собрание нашего больничного объединения? Не уверен, что четко уяснил даже тогда. А уж вспомнить сейчас, да еще чем занимался под стрекот ораторов, просто абсурд. Явно я не был добросовестным покорным участником безрассудного шаманства. Возможно, читал. Или разгадывал кроссворд. Не случись собрания, в семь часов вечера мог благополучно оказаться дома. Позади вполне удачный рабочий день. Всего четыре операции. Удалось осуществить уже давно задуманное. Операции! Такая нужная, осмысленная работа! Доставляющая не просто удовлетворение, а удовольствие. Вот только протоколы потом заполнять… Как я ненавидел бюрократическую писанину! Но в жизни за все надо платить.
Так о чем собрание? Явно не о делах во второй больнице, едва-едва дышащей. Батареи отопления не греют. Нет топлива. К двум сестрам, обслуживающим шестьдесят хирургических коек, мы притерпелись. А где найти санитарок за гроши, которые называют зарплатой? В семь часов я был бы дома, когда бы не партбилет. В партию вступил на фронте. Теперь нахожусь в ней как в постоянной коже. А ведь в детстве, в юности кожа у меня была другая. Более эластичная. Без татуировки окалиной танковой брони, без множества рубцов после ранений, без пуль, прощупываемых в подкожной клетчатке.
Словом, собрание мне нужно было, как прыщ на том, на чем сидим. Поэтому внезапное появление врача скорой помощи, немедленно, срочно вызвавшего нашего главного врача Петра Васильевича Яшунина и меня, воспринял как спасение от липкой тягомотины.
Вероятно, неожиданный вызов помешал мне здраво рассудить, что уже девятый час вечера, и что если собираются везти на карете скорой помощи, тебе предстоит работать, а не отдыхать дома после тринадцати рабочих часов в больнице.
В карете мы с Петром Васильевичем узнали, в чем дело. Квартиру председателя Киевского городского совета товарища Давыдова ограбили. Теща тяжело травмирована. Дом номер девять на улице Кирова, где жил председатель, находился террасой выше нашей второй Печерской больницы, примерно в двух сотнях метров. Не только соседство, доброе имя хирургического отделения больницы было причиной того, что знатную тещу доставили именно к нам.
Несколько минут потребовалось для установления диагноза: перелом левой теменной кости с небольшим сотрясением головного мозга. Перелом левой бедренной кости со смещением отломков, ушибы тела. Тут же приступили к оперативному лечению. Петр Васильевич занялся головой, я — остеосинтезом бедра. До этого момента в наших действиях не было ничего исключительного, даже учитывая экстраординарную личность пациентки. Если не считать температуры в помещении — всего плюс девять градусов по Цельсию. Пациентку обложили грелками, укутали. Чего, увы, мы не могли обеспечить себе.
Предстояло самое сложное: пациентку необходимо госпитализировать. Куда? Кроме двадцати четырех коек в двух женских палатах, несколько коек стояли в коридоре. Хирургическое отделение пере–гружено. Казалось, даже в туалете стояли дополнительные койки. Петру Васильевичу пришла в голову идея: поместить высокопоставленную тещу в свой кабинет, в кабинет главного врача больницы. В некотором отдалении от хирургического отделения, ближе ко входу в здание, но все же… Самым сложным оказалось мобилизовать больничные средства, позволившие довести температуру в этом кабинете до вполне комфортной.
Ночь. О том, чтобы поспать хотя бы пару часов дома, не могло быть и речи. Хуже того, не мог сообщить жене о задержке. В нашей квартире не было телефона. Есть хотелось, как в самые голодные студенческие годы. Хорошо, в ординаторской на столе завалялся намек на еду — остаток ужина дежурного врача, маленький кусочек хлеба. Петр Васильевич по-царски отказался от хлеба в мою пользу. Заявил, что успел пообедать. Операционная сестра расщедрилась и дала мне граммов тридцать спирта. Все-таки углеводы в жидком виде. Заморил червячка. Устроился в кресле, укутался в демисезонное пальто и попытался подобием сна восстановить силы для следующего рабочего дня. Кроме всего, мне предстояло дежурить по хирургическому отделению. Дежурство, правда, «холодное», без приема карет скорой помощи.
Утром, сразу после обхода, позвонил жене на работу, отчитался и доложил о будущем. Сказал, что надеюсь послезавтра вечером объявиться дома и удостоверить семью в том, что муж и отец существует.
Снова зашел в кабинет главного врача. Моя пациентка пребывала в состоянии, которым я оставался вполне удовлетворен. Именно в этот момент в кабинет вошел Петр Васильевич в сопровождении явно не среднестатистического киевлянина. Вид его без всяких дополнительных представлений свидетельствовал о принадлежности к очень, ну просто очень, большому чину. Не ошибся. Сам председатель Киевского городского совета товарищ Давыдов! Я его лицезрел впервые. Не знаю и не знал, какие отношения у председателя были с тещей. Возможно, между такой личностью и всеми остальными людьми вообще не может быть никаких взаимоотношений.
После нескольких секунд формального общения с пациенткой товарищ Давыдов подошел к окну и властно подозвал меня к себе. Ткнув указательным пальцем в стекло, угрожающим тоном потребовал, чтобы я посмотрел на снежный сугроб, перед которым стоял сверкающий черным лаком ЗИМ. Надо полагать, этот автомобиль привез председателя.
Посмотрел.
— Что, не видите, что на снег нава–лено?
— Не вижу.
— Бинт! Окровавленный бинт! Понимаете? Окровавленный бинт! На улице, в столице Украины! — Его крик достиг предела возможного. А я почему-то страшно не люблю криков. Даже в нормальном состоянии. Тем более после такой ночи и, главное, на пустой желудок. Ссылающиеся на мой невозможный характер уверяют, что меня нельзя оставлять голодным.
Короче, о тормозах забыл напрочь. Без крика, но почти в той же председательской тональности произнес:
— Плохо, если бинт на снегу. Очень плохо. Но надо понять и увидеть, в каком состоянии сейчас больница. Поинтересоваться, куда делся персонал. А вам, родственнику пациентки, вместо грубого начальственного крика стоило бы в пояс поклониться и поблагодарить: для вашей тещи температуру в единственном помещении сумели повысить ровно в три раза в сравнении с температурой, в которой околевают больные на стационаре. А больница, между прочим, находится в самом центре столицы Украины, городе Киеве, начальником которого вы еще являетесь. Куда делось топливо для больницы, товарищ председатель Давыдов?
Петр Васильевич красноречиво сжимал мое плечо. Давыдов, не попрощавшись с тещей, а уж с нами — само собой разумеется, выскочил из кабинета. Как пыж из ствола. Петр Васильевич в очередной раз напомнил мне о моем характере. День был окончательно испорчен.
В кабинете главного врача и во всех палатах хирургического отделения я появлялся еще несколько раз. Больничная рутина постепенно вводила меня в нормальные берега. Только к Петру Андреевичу, больному нехирургическому, который лежал в небольшом боксе послеоперационной палаты, за весь день не заскочил ни разу. Решил, что навещу, когда все устоится.
Два Петра, два выдающихся хирурга Петр Васильевич Яшунин и Петр Андреевич Балабушко, во время войны служили в одном медсанбате. Сейчас Петр Ва–сильевич — главный врач нашей больницы, а Петр Андреевич — заведующий хирургическим отделением.
До чего же два уникальных хирурга не похожи! Добрый, спокойный Петр Васильевич, добросердечный, умный врач, изумительный диагност. Когда смотришь, как он оперирует, создается впечатление, что его феноменальная хирургическая техника ему вовсе не нужна, что это просто какая-то случайная легкая мелодия что-то напевающего человека, а не специалиста, погруженного в свою работу. Именно мелодия. Плюс сама собой разумеющаяся редчайшая порядочность.
Петр Андреевич — образец усердного земледельца, хлебороба. Хирургическая техника у него не хуже, чем у Яшунина. Но каждое движение — это не песня, а труд. Точно отмеренный, умный. Но тяжелый труд. Поле, которое пашут, тяжело опираясь на лемех плуга. Редкая скупая улыбка. Тщательно скрываемая доброта. И порядочность, которую почему-то тоже надо скрывать. Как же! Не все ведь такие. Не следует выделяться, демонстрируя свои положительные качества.
Кончался короткий зимний день. Зашел к Петру Андреевичу. После перенесенного тяжелого инфаркта он лежал в тесном боксе. В терапевтическом отделении не нашлось места для больного коллеги. Я сел на табуретку, едва вмещавшуюся между койкой и стенкой. Петр Андреевич уже знал о поступлении в отделение тещи Давыдова и о том, что произошло утром в кабинете главного врача. Видно, Петр Васильевич наябедничал.
— Знаете, Ион, у меня впечатление, что у вас своеобразная идиосинкразия на любое начальство.
— Почему же, Петр Андреевич? На вас, например, у меня нет идиосинкразии. И на Петра Васильевича нет.
Балабушко улыбнулся.
— Ион, прочитайте что-нибудь.
Вот тут вожжа попала мне под хвост. Черт его знает, почему я решил так поступить. С Петром Андреевичем мы часто говорили о литературе. Я читал ему поэмы Алексея Константиновича Толстого, переводы Верхарна, подпольную антисоветскую поэзию. Пытался декламировать стихи Маяковского, которых он не мог знать. Но как только возникали ритмы Маяковского, Петр Андреевич ощетинивался. Терпеть он не мог Маяковского. Сквозь зубы язвительно бросал: «Штаны Кузнецким клешить — вся его поэзия». Вероятно, из-за этой самой вожжи я почему-то начал читать вступление к «Облаку в штанах» и тщательно наблюдал за Петром Андреевичем. К моему изумлению, реакция была настолько доброжелательной, что я, не останавливаясь, перешел к первой главе, потом, уже не задумываясь, продолжил вторую, и третью, и четвертую. Петр Андреевич, до самого подбородка укутанный в два одеяла, будто замер. Не шелохнулся ни разу, впился в меня взглядом, стараясь не пропустить ни единого звука, ни единой паузы, самого моего дыхания. Только тогда, когда я, опьяненный, забывший о единственном слушателе, совсем тихо произнес заключительные слова поэмы: «Глухо. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо», — увидел, как Петр выпростал руку и смахнул слезу:
— Гений! Какой гений!
Мог ли я представить, что когда-нибудь услышу от Петра Андреевича такие слова? Не вообще о ком-нибудь, а о Маяковском!
Когда, помолчав, несколько пришел в себя, даже подумал ехидно, не наказать ли, не опрокинуть ли Петру на голову его дежурную характеристику Маяковского: «Штаны Кузнецким клешить — вся его поэзия». Но решил, что для нечистот достаточно сегодняшнего утра в кабинете главного врача. Сумрак едва вмещавшего нас бокса все еще был наполнен чем-то неописуемым, какой-то неопределенной, спрессованной красотой. Ароматом поэзии о любви. Физически не могло остаться места даже для ничтожной, величиной с молекулу, мысли о каком-то председателе Давыдове.
Предгорисполкома Давыдов и доктор Балабушко — математически точные противоположные концы диаметра.